Роберто Калассо: «Сон Бодлера»
В центре внимания Роберто Калассо создатели «модерна» — писатели и художники, которые жили в Париже в XIX веке. Калассо описывает жизнь французского поэта Шарля Бодлера (1821–1867), который отразил в своих произведениях эфемерную природу мегаполиса и место художника в нем. Книга Калассо похожа на мозаику из рассказов самого автора, стихов Бодлера и комментариев к картинам Энгра, Делакруа, Дега, Мане и других. Из этих деталей складывается драматический образ бодлеровского Парижа.
В рубрике «Книжное воскресенье» журнал об искусстве Точка ART публикует отрывки из главы «Зыбкое чувство современности», из которой читатель узнает о Париже 50-х годов XIX века, о том, как никому не известный рисовальщик-хроникер Константен Гис должен был стать «художником современной жизни», и о «трудном человеке» Эдгаре Дега, который почти пятьдесят лет вел непрестанную борьбу с канонической композицией.
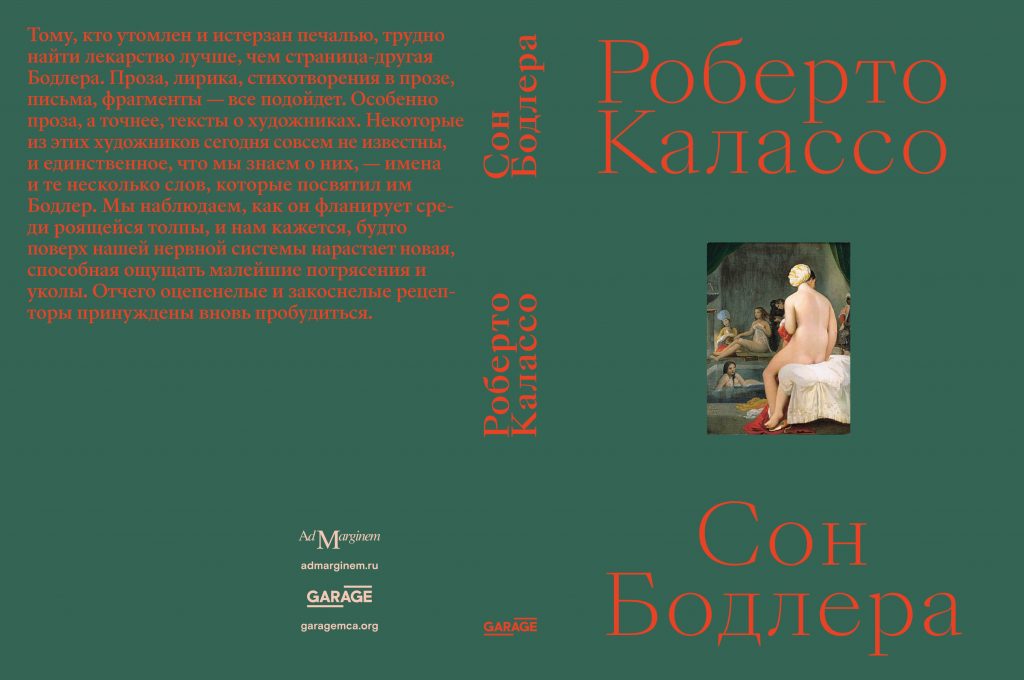
V Зыбкое чувство современности
Подчеркнутое неприятие Бодлером Энгра было прежде всего риторическим контрапунктом его восхищения гением Делакруа. Кроме того, оно было реакцией на высокопарные рассуждения художника в защиту классической триады Рафаэль — Греция — Природа. Бодлер мыслил слишком тонко и нетрадиционно, чтобы удовлетвориться такой примитивной доктриной. Однако когда дело касалось картин Энгра, он мгновенно менял регистр. Бодлер не слишком убедительно пытался скрыть, что мог бы стать для Энгра отличным критиком, единственным, кто был бы на уровне его обескураживающей новизны. Его стратегия была тем не менее иной: он был прозорлив и вел себя вызывающе. Так, когда надо было назвать «художника современной жизни», выбор его пал на безвестного, не пользующегося покровительством Академии газетного художника, который даже не мечтал увидеть напечатанным свое имя, — на Константена Гиса. Это был скачок, разом перемахнувший через Делакруа, Энгра, еще не родившийся импрессионизм и перенесший нас на порог нового времени с его вечно неутоленными желаниями — легкости, несерьезности, приключений, различных форм эротики, чего-то далекого от респектабельности.
И вот некий рисовальщик-хроникер, ежедневно посылавший свои наброски в Illustrated London News, потому что там с них печатали мгновенные ксилографии, этот стенограф повседневности, этот иллюстратор (непризнанный гений) был выбран в качестве эталона, был предпочтен Делакруа и Мане. Этот выбор Бодлера и сегодня озадачивает, историки искусства не могут его понять. Каким образом этот «пленительный легкодумец» Гис, не упомянутый ни в одном учебнике, оказался поставлен выше великого Мане? А ведь всего через два года после этого эссе Мане выставил свою «Музыку в саду Тюильри», которая напоминает прилежное и шумное воплощение Бодлеровских рекомендаций — и где, затерянный в толпе, присутствует сам Бодлер. Мане был другом Бодлера и, кроме того, входил в число тех, кто одалживал ему деньги, не требуя возврата.
[Not a valid template]Из всех многочисленных художников, с коими Бодлера сводила судьба, только с Гисом у него сложились отношения, сочетавшие в себе восхищение, сообщничество и осторожную дружбу. Только ему мог он заказать какой-нибудь рисунок — даже в тот момент, когда был кругом в долгах. Он редко когда проявлял такой восторг и такую гордость, как в письме к Пуле-Маласси, где признавался в своем поступке: “Должен рассказать еще об одном своем безрассудстве. Несмотря на мое бедственное положение и Вашу нужду, я купил у Гиса и заказал ему, для Вас и для себя, несколько бесподобных рисунков, не спросив Вашего на то согласия, но это не должно Вас беспокоить. Коль скоро Ваше имя ничего ему не говорит, если Вы на мели, за все заплачу я сам«557. Таким образом, если Бодлеру надо было сделать матери Рождественский подарок, это мог быть только рисунок Гиса («Турчанка с зонтиком»).
Но родство двух личностей гораздо теснее, потому что оно прослеживается даже в рисунках. Если Бодлеру случается набросать женскую фигурку, порой весьма убедительно, на ум мгновенно приходит Гис. И не только потому, что набросок мог быть навеян рисунками Гиса, но еще и потому, что Бодлер просто не умел рисовать иначе. И в этом можно убедиться, если посмотреть на его рисунки женских фигур, относящиеся к периоду, когда они с Гисом еще не были знакомы. Существовало между ними что-то общее, что выходило за рамки искусства: некая скрытая и непреодолимая общность восприятия.
Современность: слово, употребляемое немного наугад, которым перебрасывались Готье и Бодлер на протяжении десяти с небольшим лет, в годы Второй империи, с 1852-го по 1863 год. Они делали это осторожно, сознавая, что вводят в язык новое понятие. Готье, 1855-й: «…современность. — А есть ли такое существительное? Чувство, которое оно выражает, настольно ново, что слова этого, вполне возможно, еще нет в словарях». Бодлер, 1863-й: «Он ищет нечто, что можно было бы назвать „современностью“; потому что нет слова лучше, чтобы выразить означенное понятие».
Но что же это было за понятие, такое недавнее и такое зыбкое, что не успело войти в обиход? Что представляла собой современность? Безделушки и женское тело — сразу заявил критически настроенный Жан Руссо. Артур же Стивенс, вступаясь за Бодлера, впервые назвал поэта «человеком, который, кажется, придумал слово современность». Через живопись и фривольность современность вошла в словари.
Но она утверждалась и распространялась так, как происходят завоевания: творя вокруг себя опустошения. Вскоре никто уже не помнил, как осторожно это слово прокрадывалось в язык. Однако для Бодлера оно так и осталось окутано облаком духов и пудры.
Для открытия Салона 1855 года «произведения всех художников Европы были торжественно собраны на авеню Монтень, словно для некоего эстетического совещания». Бродя по залам, Бодлер вынужден был констатировать “общую для всех участников тенденцию обряжать своих персонажей в старинные одежды«564. Но по сравнению со временами Давида, тяготевшего исключительно к римской античности, появилось кое-что новое: «…Нынешние художники, напротив, трактуя сюжеты общего характера, могущие относиться к любой эпохе, упорно одевают своих персонажей в средневековые, ренессансные или восточные костюмы». Здесь Бодлер констатирует превращение прошлого — во всей его глобальности — в набор сцен, готовых к употреблению. Это было немаловажное явление, вызванное сложными причинами. Одной из них было нежелание видеть то, что представало взору на улицах большого города, потому что могло показаться чересчур новым. От этой новизны отгораживались бархатом, парчой, кисеей, драпировками, коврами, камзолами, манжетами, стрельчатыми арками, балюстрадами. А современность сводилась к «временному, мимолетному, случайному», к эфемерному и двусмысленному, которое Константен Гис пытался запечатлеть своими беспокойными, дрожащими линиями. Вот как случилось, что слово «современность», доселе бывшее не в ходу, утвердилось в качестве названия четвертой главы эссе Бодлера, посвященного Гису: тому, кто готов был раствориться в толпе, оставив после себя одни инициалы; тому «одинокому страннику с живым воображением, что пересекает бескрайнюю человеческую пустыню» (эти последние слова заимствованы у Шатобриана).
Теперь, когда слово «современный» употребляется на каждом шагу вплоть до того, что само вот-вот станет антиквариатом, трудно осознать, насколько диковинно и эротично оно звучало вначале.
Спустя полтора века, когда адепты и ненавистники современности заполонили своими трудами бесчисленные книжные полки, не в силах совладать с жаждой высказаться, новая попытка того, что можно было бы назвать попыткой Бодлера, могла бы быть и убедительной, и забавной.
Было что-то тягостное, тошнотворно-приторное в навязчивой светскости Салонов, о которых так подробно писал Дидро. По словам Фосийона, в те годы в Париже «великие ценители рисунка, любители искусства — не меньше, чем художники, — были подчас способны сочетать тактильную чувствительность с художественным чутьем, которое жанровая живопись развивает у тех, кто умеет ценить прекрасное». Если рамки картин зачастую бывали перегружены украшениями, гипсовой лепниной, то рисунки с их пустым пространством, напротив, выносили на первый план детали, пусть даже просто узел кос на затылке — как на дивном рисунке Буше 1740 года, изображающем затылок служанки. Из чего явствует, что только такие детали и вызывали тогда интерес. Именно эту перемену и хотел показать Бодлер, когда заявил о Гисе как об исключительном художнике современной жизни (и отсылка к Сент-Обену была понятной). В перспективе это значило свергнуть живопись с ее пьедестала и признать, что будет еще что-то не менее важное в кипучем царстве изображения, что придет вместе с пресловутой газетной иллюстрацией или — хуже того — с фотографией.
До того, как появилась фотокамера, изображения фиксировал бродивший по улицам Парижа рисовальщик. Гонкуры познакомились с Гисом в доме Поля Гаварни в апреле 1858-го, за несколько месяцев до его встречи с Бодлером. Для них это был «рисовальщик английского журнала „Иллюстрейшен“, искусный художник, яркими красками запечатлевавший сцены в борделе». Они увидели в нем «чудака, прошедшего через взлеты и падения, объездившего полмира и чего только ни повидавшего на своем веку, человека, рисковавшего жизнью во время своих скитаний и любовных похождений, прошедшего через лондонские меблированные комнаты, дома моды, немецкие игорные дома, через зверскую резню в Греции, парижские табльдоты, через редакции газет, севастопольские траншеи, лечение ртутью, чуму, константинопольских собак, дуэли, потаскух, жуликов, развратников, через затхлость, нищету, притоны, через самое дно общества, где, как в море потерпевшие крушение, дрейфуют личности без имени, босяки, все эти оригиналы, пошедшие ко дну, страшные, никогда не всплывающие на поверхность романа». Понятно, что именно этот человек был предназначен судьбой стать «художником современной жизни», певцом «сомнительной красоты», ведь он оставил сотни и сотни набросков, сделанных с проституток всех мастей, от самых низкопробных шлюх до высокопоставленных куртизанок, которые в своих роскошных экипажах разъезжают по Булонскому лесу или с высоты театральных лож рассматривают в бинокль партер.
Если Бодлер выбрал Гиса в качестве модели, то еще потому, что он раньше Фукса пришел к ошеломляющему открытию: иллюстраторы в ту эпоху были гораздо смелее художников. Не чувствуя на себе тяжести прошедших веков, пребывая в блаженной безвестности, не будучи обязанными теоретически обосновывать то, что они делают, и соотносить это с античными канонами, отчитываясь только перед заказчиком, боящимся потерять деньги, избавленные от унизительного отбора Салонов, рисовальщики плавали в царстве картинок и могли даже не произносить слово «искусство». То же случилось и с Гисом: его многочисленные fi lles / девицы, что встречают, ждут или развлекают клиентов в домах свиданий, прокладывают путь к афишам Тулуз Лотрека. Гис ставит свою печать на новом виде искусства, сравнимом с фламандскими сценами деревенской жизни или с пасторальными идиллиями художников галантного века. Это «пестрая картина фривольной красоты», нашедшей наконец свое пространство, огромное и замкнутое, и на пороге его, на ступеньках лестницы, сидят две черноволосые женщины, схожие между собой лицом и бледно-зеленым облаком одеяний, с обнаженной грудью и смело выставленными напоказ голыми ногами. Преодолев эти ступеньки и углубившись в темные недра заведения, зритель увидит другие притягательные и таинственные образы: например, молодую женщину в темно-синем пышном кринолине на фоне ярко-желтой стены, напоминающую одну из тех «живых кукол, чей детский взгляд излучает мрачный свет».
Не чувствуя на себе тяжести прошедших веков, пребывая в блаженной безвестности, не будучи обязанными теоретически обосновывать то, что они делают, и соотносить это с античными канонами, отчитываясь только перед заказчиком, боящимся потерять деньги, избавленные от унизительного отбора Салонов, рисовальщики плавали в царстве картинок и могли даже не произносить слово «искусство».
Рисунки Гиса можно было найти в большом количестве в самых разных уголках Парижа. Они продавались дюжинами. Но можно было их купить и в розницу: в зависимости от размера цена варьировалась от пятидесяти сантимов до одного франка за штуку. Судя по всему, продавец у них был один: некий месье Пико из пассажа Веро-Дода. По тематике рисунки подразделялись на четыре вида: кареты, всадники, военные и женщины легкого поведения (последние заметно преобладали). Как если бы за пределами этих четырех категорий не было ничего, достойного запечатления. Все эти рисунки объединяло одно: мгновенность, быстрота исполнения. Суть у Гиса иная, чем у карикатуристов — его друга Гаварни или Домье. Карикатура как таковая исполнена смысла, она ищет в модели характерные, индивидуальные черты. Гис, напротив, о смысле не заботится. Его женщины, как правило, имеют невыразительное, скучающее лицо, словно выполняют какое-то неинтересное поручение.
Они мало чем отличаются друг от друга — разве что кое-какими деталями туалета или прически, или еще тем антуражем, в котором их застиг рисовальщик, от убогих лачуг до роскошных экипажей. Важно также, что этих картинок было много и число их имело тенденцию расти, превращаясь в почти индустриальное производство. В Гисе Бодлер угадывал искусство наглое и бесстыдное, занятое исключительно «ежедневными метаморфозами внешнего» и подчиняющееся “стремительности, которая принуждает художника к небывалой быстроте исполнения«598. Это могло бы быть противоядием при его меланхолии, склонности к «сатурнианству» и летаргии. И в отдельных, исключительных случаях — как, например, в стихотворении «Прохожей» — оба подхода могли сливаться, смешиваться.
В последние годы жизненный поток швырял Гиса как ореховую скорлупку. Если бы кто захотел внимательно вглядеться в его судьбу, то нашел бы только молчание и пустоту. У него не было ни выставок, ни заказов, ни споров, ни любви, ни родных. Немногочисленные друзья умерли раньше. И если бы последний из переживших его, Надар, не написал после его смерти короткий некролог, мы бы никогда не узнали, как, попав под экипаж, с раздробленной ногой и прикованный к постели, он лежал в какой-то клинике.
Бодлер отмечает, что каждую ночь Гис много часов подряд бродил по городу, а потом, когда все спали, рисовал свои картинки. Он оставил после себя две тысячи рисунков. У Бодлера их набралось несколько десятков; у Готье было штук шестьдесят. Но никто не написал о нем, кроме Бодлера, посвятившего ему самое прекрасное и проницательное искусствоведческое эссе девятнадцатого века.
Подобно склонному к затворничеству Гису, Дега тоже бродил — только за кулисами и в балетных классах. В отличие от Гиса, он рисовал не кокоток, а балерин. Что их сближало, это одержимость и повторяемость.
А что же импрессионисты? «Вам нужна жизнь натуральная, мне — искусственная». Это одно из высказываний Дега, одна из его колкостей, насмешек. Но за этим стоит целая философия, выстроенная на непримиримости. Дега отвергал идею пленэра, находил нелепым ставить мольберт посреди поля, чтобы приблизиться к природе (Мане, тот хотя бы, когда писал, не снимал цилиндра).
Дега был городским жителем, и, чтобы увидеть, ему требовался в высшей степени искусственный фильтр. Этим фильтром могли быть огни рампы, или умело созданное нагромождение предметов в мастерской, или суета улиц, по которым он без устали бродил («Ambulare, postea laborare» / «Бродить, а потом работать» — девиз, который он сам себе придумал). Нужно было, чтобы что-то привлекало взгляд, создавало иллюзию, манило прочь. Какая-то необъяснимая зыбь в глубинах опустошенной души. Дега всячески избегал говорить о себе, заставляя нас взглянуть на мир его глазами: невзначай, украдкой, чтобы застигнуть его врасплох, толкуя о чем-то другом. И тогда, может случиться, его слова достигнут едкого пафоса. В письме к своему другу Руару Дега оправдывается, почему никуда не трогается из Парижа, в то время как все уезжают за город: «В городе тоже недурно, если вам там нравится. А мне, как вы сами знаете, нравится чрезвычайно. Я продолжаю наблюдать: за лодками, за катерами, за людьми, что развлекаются на воде, да и на суше тоже. Мельтешение вещей и людская суета в конечном счете умиротворяют, если только можно в чем-то найти умиротворение, когда мы так несчастливы. Если бы листья на деревьях не шелестели, как печальны были бы эти деревья и мы вместе с ними! В соседнем саду растет какое-то дерево, трепещущее при каждом порыве ветра. И что же? Даже когда я в Париже, в моей грязной мастерской, я вспоминаю, как оно прекрасно…»
[Not a valid template]Это «какое-то дерево» олицетворяло для Дега всю природу в целом. По отношению к природе он испытывал то же недоверие, что и Бодлер. Но ему не нужны были ни теология, ни ссылка на первородный грех. Ему не нужен был Жозеф де Местр. Дега хватало рисования. Жизнь его была «разлинована, как нотный лист». С утра до вечера он сидел перед мольбертом у себя в мастерской. Похоже, его нисколько не манили естественные ловушки, в которые уже угодили многие современники, а последующие поколения так и вовсе будут ими одержимы: это инстинкт, секс, спонтанность, счастье, добрый дикарь, новый человек. Если он замечал хоть малейший намек на эти новшества, то мгновенно отворачивался.
Дега — «трудный человек» в том смысле, какой вкладывает в это понятие Гофмансталь. Для такого человека «болезнь жизни» — не открытие и не катастрофа, способная застать врасплох. Если Мане стремился быть человечным и мгновенно узнаваемым в своих поступках и порывах, то психика Дега с самого начала была защищена ревностно оберегаемой броней. Все окружающие были вынуждены признать, что значительная часть его жизни была покрыта тайной. В остальном его повседневное существование ничем не отличалось от существования любого буржуа. Респектабельность, размеренность, любовь к красивой одежде, даже склонность общаться скорее с химиками, инженерами и изобретателями, нежели с художниками или, хуже того, с литераторами: внешние черты сводились к этому.
Дега часто говорил, что хотел бы, чтобы критики, торговцы картинами, салоны, журналисты и литераторы оставили его в покое. Есть основания полагать, что он действительно так думал. Хотел писать картины — и прислонять их к стене. А потом, по прошествии нескольких часов — или нескольких десятилетий (как случилось с «Мадемуазель Фиокр»), — возвращаться к ним снова. Не выносить их из дома; а если случится вынести, то постараться как можно скорее вернуть их обратно и что-нибудь в них подправить.
Вот образ жизни Дега. Он ненавидел тех, кто стремился все объяснить. Однако те, кто стремился лишь понять, ему тоже не нравились. Он никогда не пояснял, что именно он намерен сделать. Рассуждать об искусстве было для Дега мукой — и все же это ему нравилось. Результат, правда, был обескураживающий: «Я способен подобрать самые ясные и точные слова, чтобы объяснить, что я хочу, при этом я говорил об искусстве с умнейшими людьми — и они меня не поняли… С теми же, кто и без слов все понимает, слова не нужны: скажите ммм! ооо! ааа! — и все ясно». Комическая ситуация, когда для взаимопонимания достаточно нескольких нечленораздельных звуков. Мука начиналась, когда о живописи принимались рассуждать другие. Так, например, Гюисманс подтолкнул Дега к следующему характерному высказыванию: «Все эти литераторы полагают, что способны быть художественными критиками, словно живопись — такая общедоступная вещь». Получается, что из всех областей знания живопись — самая древняя и самая закодированная, сродни эзотерической истине, защищенной тайной, которую невозможно выдать по той простой причине, что нет способа это сделать. Впрочем, Дега никогда не употреблял слово «эзотерический» — еще одно «вычурно- литературное» словечко.
Ничто так не приближается к немоте, как мастерство художника. И чтобы скрыть эту немоту, живопись могла подавать себя, как того хотел Дега: в качестве «особой, исключительной дисциплины», состоящей сплошь из «тайн» и отличающейся «техническим эзотеризмом» (терминология Валери). Воплощаясь в слове, эта область превращалась либо в профессиональный язык, герметичный для непосвященных, либо в безапелляционные сентенции, подобные Энгровским, которые, впрочем, всегда оставляли ощущение пустоты и непостижимости. Это касалось также самого Дега. «Рисунок — это не форма, это способ видеть форму» — вот одна из самых известных его фраз.
Чем дальше, тем более открыто живопись заявляла о своей враждебности слову. Максима «ut picture poesis» («поэзия подобна живописи») потеряла свое значение, да и сама живопись уже не допускала, чтобы поэзия была «живописью, рассказывающей истории», как предрекал Бенедетто Варки.
Замкнувшись в себе, не обращая ни малейшего внимания на либретто (так в программках Салонов назывались краткие описания сюжета полотен — последнее, что оставалось от утраченной иконологичности), живопись все больше становилась самодостаточной и отдельной от танцовщиц, гладильщиц и неутомимых купальщиц, которых упорно писал Дега, как будто видя в этих сосредоточенных фигурах, чьи движения сводятся к минимуму, к скупым обыденным жестам, упорство немоты, свойственной также его собственному искусству.
И все же у него местами встречаются похожие на обломки отдельные фразы, порождающие ощущение приближения к «таинству» живописи. Почти слепому, «вконец одичавшему, непримиримому, невыносимому» Дега осязание, казалось, заменило зрение. «Он ощупывал предметы» — и говорил о живописи так, как будто воспринимал ее на ощупь. О полотне он говорил: «Оно плоское, как красивая картина». От этой фразы вздрагиваешь: она — осколок знания, остававшегося бессловесным. Ее цитирует Валери в конце своего эссе «Дега. Танец. Рисунок». Там же, по поводу искусства, с неожиданным презрением он роняет несколько слов, касающихся Паскаля, который «не умел смотреть: иначе говоря, забывать названия тех вещей, которые видел».
Вначале Валери нравилось наблюдать за Дега: «Каждую пятницу Дега — верный, искрометный, невыносимый — оживляет вечерние застолья господина Руара. Он зрит в корень, всех терроризирует, источает веселье». Его «характерная черта» — «своего рода грубость интеллектуального замеса». И это позволяет ему избегать «жеманных нелепостей Малларме, которым нет конца». Зато у Дега есть «свои чудачества». В частности, антисемитизм.
До Дега существовало разумное правило помещать изображаемого на портрете в центр картины. Кроме того, было принято, чтобы все фигуры, даже второстепенные, изображались на полотне целиком. Поле картины, при всех своих произвольных ограничениях, должно было обеспечивать целостность фигур. Дега все изменил. Возможно, это даже не было осознанное решение и уж тем более не утверждение какого-то нового принципа. Дело было в избыточности движения. Когда это началось? Не с самого начала, потому что первые портреты Дега сохраняли традиционную композицию с фигурой в центре. Новизна впервые драматично проступает в «Портрете семьи Беллелли». Это было серьезное полотно, которое в течение семи лет привлекало внимание к молодому Дега. Сначала оно называлось просто «Семейный портрет», то есть изображало нечто, имеющее ядро, — и ядром этой композиции являлась пустота в центре картины. Отец сидит, повернувшись спиной к зрителю, и все четыре фигуры смотрят в разные стороны. Каждая как будто стремится исключить других из своего поля зрения — как это заметно и на отдельно взятом портрете двух сестер Беллелли. Это некие психические сущности, решившие не соприкасаться. У матери такой неподвижный и отсутствующий взгляд, что кажется, будто она слепа. Девочки с виду упрямы: та, что в центре, упорно отводит от художника безучастный взгляд, как будто опровергая свое центральное положение в композиции. Вторая смотрит на художника со скучающим видом, словно хочет спросить: «Когда же кончится эта мука?» Отец семейства сидит к художнику спиной и — главное — вообще не имеет взгляда. Нам известно по разным свидетельствам, что в семье Беллелли царили взаимные неприязнь, непрощенные обиды, непримиримость: настоящий домашний ад. Этакий южный Стриндберг.
Групповые портреты обычно заказывали, чтобы показать единство, сплоченность, гармонию. Побуждающим мотивом могли быть также гордость, тщеславие. Дега, напротив, желал написать — и упорно совершенствовал свой метод — семью, сплоченную взаимной ненавистью. Почти пятьдесят лет вел Дега подспудную, саботажную, непрестанную борьбу с канонической композицией.
Пустынная холмистая равнина. Проблески солнца в низком, затянутом облаками небе. Вдали — дым бушующего пожара, сквозь него прорываются языки пламени. Еще дальше, на взгорье — силуэт готической колокольни и какие- то строения. На первом плане — широкая пыльная дорога. Два дерева на обочине тянут к небу худосочные, сухие ветви. Что еще? Девять обнаженных женщин. Три из них мертвы — или при смерти. Две идут прочь, но, похоже, не в силах бежать: так бывает в страшном сне. Еще две прислонились к дереву; они схвачены в момент конвульсивного движения, как будто их пронзили стрелы и они пытаются защититься. Одна, похоже, привязана за руку к дереву. Другая согнулась, свесив длинные рыжие волосы, словно желая за ними спрятаться. Еще одна женщина лежит в пыли.
Загадочная картина — и страшная. Когда она была выставлена на Салоне 1865 года, название у нее было «Эпизод средневековой войны» (без какого бы то ни было комментария). Она не иллюстрирует никакой исторический эпизод. Зритель сам должен придумать его. Что привело девять обнаженных женщин (у трех из них имеются кое-какие обрывки одежды) в чисто поле, что заставило их отдаться на поругание трем невозмутимым и безжалостным всадникам?
Гораздо больше, нежели в картине «3 мая 1808 года в Мадриде» Гойи, гораздо больше, нежели в полотне «Расстрел императора Максимилиана» Мане (которое, поделенное на четыре части, фигурировало в коллекции Дега), в этой работе противопоставлены беззащитность и произвол. Приглушенные, землистые, напоминающие фреску тона, рассеянное, тусклое освещение, редкие акценты цвета (желтый камзол лучника, огненно-рыжие волосы женщины, красные штаны всадника справа) — все свидетельствует о холодной продуманности и безмолвии происходящей сцены. Главное — жест, несущий смерть, подчеркнутый униженными позами жертв. Пройдет несколько секунд, и на пыльной дороге останутся лежать лишь несколько обнаженных женских тел. Что же всадники? Их и след простынет.
Дега никогда ни словом не обмолвился об этой картине. Но всегда держал ее под рукой, в своей мастерской. После Салона 1865 года прошло более пятидесяти лет, прежде чем полотно было снова выставлено: на этот раз на аукционе в 1918-м, когда после смерти художника его коллекция пошла с молотка.
«Сцена войны» построена на особой жестокости, которой не было аналога в те времена. Либо вообще невозможно ее себе представить (такова была реакция современников; Галеви был единственным, кто признал, что речь идет о какой-то «обескураживающей фантазии, странном, приводящем в замешательство произведении»). Либо можно рассматривать ее как предсказание грядущих времен. То, что сцена происходит в средневековом обрамлении, всего лишь подчеркивает исключительность представленного на картине.
Дега всегда избегал высокопарных заявлений, касающихся творчества. Лишь иногда, подобно Энгру, он высказывал суждения о рисунке или цвете, понятные только таким, как он, одержимым, демонстративно молчаливым художникам. Но здесь, в своей записной книжке, между двух лошадиных голов, он оставил запись, которая напоминает некий основополагающий принцип и вытекающие из него многочисленные выводы: не только никогда не говорить, что «кот есть кот» (подобная тавтология была свойственна Курбе, что, однако, к счастью, не сказалось на его живописи, — но, напротив, демонстрировать свое «несогласие». А что является «несогласием» по отношению тавтологии? Умолчание. Это и есть, по мнению Дега, основа живописи. Но кроме умолчания, надо все же что-то сказать. Однако слово подчас — и даже довольно часто — «бывает слишком резко». И тогда умолчание должно превратиться в зияние. А как же иначе? Как быть, если большую часть своей жизни художник сидит в мастерской и пишет? Достаточно, чтобы «тонкая вуаль, не скрывая черт, опустилась на портрет». Вот, пожалуй, самая точная характеристика живописи Дега. Кто не в состоянии приподнять эту полупрозрачную завесу, вуалирующую его полотна (напоминающую цветную пыльцу, которой торговцы осыпают искусственные цветы), тот не видит Дега.
Как рисовальщик линий, он был единственным последователем Энгра. Вуаль для него должна быть почти неосязаемой, она нужна лишь для того, чтобы исключить возможность буквального понимания. Картина должна быть завуалирована, но отличаться четкостью: так Дега видел изображаемый им мир. По этой причине он говорил, что «природа проста». Некоторые персонажи Дега ощутимо, хотя и безмолвно, присутствуют в картине, словно знают что-то мрачное, только что случившееся и не подлежащее огласке. Так обстоит дело с картиной «Семейство Беллелли», где несчастье и взаимные обиды почти физически ощутимы, будто ими напоен воздух, а обе девочки, хмурые и отсутствующие, только и ждут, когда кончится пытка позирования.
Как иронически отмечали современники, Дега без устали писал балерин и гладильщиц. Но «в одних нет ни капли сладострастия, в других — ни капли эмоциональности».
Отношения Дега с женским полом не были отмечены, как у Энгра, благоговением. Не ударялся он, как Бодлер, и в метафизику. Большую часть жизни он рисовал и писал женские и девичьи тела. Им владело чувство, в котором влечение подспудно уравновешивалось отвращением, и оба они сходились в недостижимой точке равнодушия. Самые прозорливые его современники заметили это, и прежде всех — критик от бога Феликс Фенеон. Он писал: «Никогда не впадая в карикатуру, и даже напротив, подчеркивая важность священнодействия художника, г-н Дега питает к женскому телу исконную неприязнь, которая сродни обиде».
Что-то похожее на эту «исконную неприязнь» можно уловить в записи, которую Даниэль Галеви сделал в своем дневнике 27 мая 1891 года: «Сегодня утром к завтраку пожаловал Дега. Он говорил о женщинах со своим привычным отвращением. И его они задели за живое! Даже он восприимчив к умиротворяющему, но деморализующему воздействию женщин, их очарованию, лишающему нас сил. И именно на это он сетует, на постоянную тиранию с их стороны. Он очень дружен с мадам Жаннио, обворожительной дамой, которой он часто говорит: „Я, должно быть, по-настоящему люблю вас, раз прощаю, что вы так прелестны!“ Но за что он ее любит? Если бы она была мужчиной, любил бы он ее? Это довольно ветреная особа, ей нравится свет, ей глубоко чужд мыслительный процесс, в ней нет никакой живости ума — того, что Дега больше всего ценит. Если он и любит ее, то лишь потому, что она женщина, и потому, что хороша собой. Но все это такие тонкости, что сам он, я уверен, этого не понимает».
Дега знал, как женщины вытирают пальцы на ногах; как они зевают, гладя белье; как вылезают из ванны. Но он не знал, что значит проснуться с женщиной в одной постели. Если бы такое с ним случилось, это вскоре стало бы известно. Однако никто из его знакомых не помнил, чтобы у него была какая-нибудь связь, пусть даже мимолетная.
Великий бездельник Буланже-Каве, умудрившийся за всю свою жизнь не сделать ничего, разве что короткое время исполнять необременительные функции театрального цензора, попал, судя по всему, в точку, когда записал несколько фраз относительно мягкого и сердечного отношения Дега к маленьким балеринам: «Он находит их всех очаровательными, обращается с ними, как с дочками, прощает им все, что бы они ни делали, и смеется всему, что они говорят». По поводу самих балерин Каве отмечал: «Они испытывают к нему… подлинное уважение, и даже самая маленькая из „крысок“ много отдала бы, чтобы сделать приятное Дега».
В 1886-м, на восьмой и последней выставке импрессионистов, Дега представил «в качестве оскорбительного прощания» (воспоминания Гюисманса) некоторое количество пастелей, аннотированных в каталоге следующим образом: «Серия женских ню, принимающих ванну, моющихся, вытирающихся или расчесывающих волосы».

В этой невозмутимой формулировке чувствуется изощренный сарказм, и Гюисманс, питавший непреодолимую склонность к «Гран-Гиньолю», усматривал в ней «внимательную жестокость и терпеливую ненависть». Гюисманс и Фенеон (два самых проницательных наблюдателя эпохи) поочередно и на все лады пытались выразить словами «уродства» женщин Дега. Напрасно: все стрелы пролетели мимо цели. Несколько десятилетий спустя эти фигуры казались всего лишь представительницами редкого зоологического типа: «женщина обыкновенная». Случалось (и довольно часто), что модели были привлекательны; другой раз нет — но они всегда были вплетены в чудесную хроматическую паутину либо лохани, либо будуара, либо «полу мрака меблированных комнат» (Фенеон). Натурщицы Дега, которых мы видим на его «извращенных» рисунках, вовсе не являются отталкивающими по сравнению с теми, кто позировал в те же годы салонным художникам. Иной раз натурщицы были одни и те же. Разница в том, что Дега не заставлял их с порога принимать определенную позу, а просил походить обнаженными по мастерской. Сначала они должны были покрутиться вокруг лохани, царившей в мастерской, как священный сосуд; потом, наконец, наступал момент, когда глаз художника выхватывал нужную позу — ту, которую Дега (человек, по мнению Валери, «всецело поглощенный своими внутренними ритуалами, ожиданием своей внутренней добычи») ждал; этой «добычей» могло быть что угодно, но об этом Дега ни разу не обмолвился ни единым словом.
Что шокировало в рисунках Дега, это не отсутствие грации в женских телах, но кое-что менее явное, зато глубинное: полный отказ от канонических жестов. За много веков живопись привыкла к определенному набору жестов и поз, и все возможные вариации укладывались в существующие рамки. Этого было достаточно для флорентийских художников Кваттроченто, равно как и для мастеров галантного века, века рококо. Всякий раз художник имел возможность выбирать из существующего реестра более или менее стандартных поз. Никто не решался выходить за пределы этого круга. В этом-то и заключался саботаж Дега, и результат оказался сногсшибательным. Художник упорно ловил промежуточные жесты, отличные от канонических, жесты, не имевшие смысла, исключительно функциональные, порой безотчетные, не контролируемые теми, кто их совершал. Монологические жесты. Эти голые тела были запечатлены в тот момент, когда еще не успели превратиться в Обнаженные тела, в череду Ню, отражающих историю искусства от Праксителя до Энгра и далее до Бугро. Это касалось пастелей 1886 года и других многочисленных работ, изображавших женщин в интимной обстановке.
Что шокировало в рисунках Дега, это не отсутствие грации в женских телах, но кое-что менее явное, зато глубинное: полный отказ от канонических жестов.
Но еще более обескураживающие позы выбирал Дега для балерин. В этих работах жест достигал наибольшего абстрактного напряжения, максимально удаленного от кодификации, не соответствовал никакому перечню выразительных поз, принятых в живописи (хотя речь шла о самостоятельном и самодостаточном своде балетных поз). Это просто был другой язык, движение, остановленное на полпути и растворяющееся в многоцветном мареве пространства между кулисами, актерскими уборными и репетиционными классами.
«Всепоглощающая страсть» к фотографии охватила Дега осенью 1895 года. Обычно по вечерам он искал каких-нибудь развлечений. Некоторое время осваивал технику гравюры, сочинял сонеты, вырезал из дерева набалдашники для тростей (молодой Воллар приносил ему куски экзотических пород дерева, а взамен забирал какой-нибудь рисунок: так начиналась его карьера крупного торговца искусством). Впоследствии, писал Галеви с непринужденностью, не соответствующей важности информации, Дега «увлекся антисемитизмом, ополчился на Лувр; но эти две страсти были слишком реальны и ожесточали его».
«Изящные искусства надо смирять» — вот еще один знаменитый девиз Дега и, кстати сказать, одна из его самых достойных и провидческих фраз. Ближе к концу девятнадцатого века Дега все с большим раздражением взирал на повальную и планомерную эстетизацию всего вокруг. Он чувствовал, что миром вот-вот завладеет толпа декораторов интерьеров. В этом он близок Карлу Краусу, который за несколько лет до того отметил, что мир делится отныне на две категории — это «те, кто использует урну в качестве ночного горшка, и те, кто использует ночной горшок в качестве урны». Тревожило его вот что: чем больше эстетика распространялась вширь, тем больше она теряла в силе.
Перед глазами Дега разверзался новый век. В котором все, даже кровопролития, будут подчиняться воле какого-нибудь арт-директора, а искусство — в частности, древнее искусство живописи, когда-то наиглавнейшее, — будет становиться все более эфемерным, пока совсем не исчезнет.
Старость Дега была печальна: бесконечно долгое одинокое, убогое существование. Практически слепой, хотя внешне еще крепкий и бодрый, заросший густой белой бородой, похожий на «мрачного Просперо», он бродил один по улицам Парижа. Ходил просто чтобы ходить. Одетый кое-как, похожий на бродягу, он семенил маленькими шажками, внешне довольно уверенно. Знакомые наблюдали за ним с беспокойством, им казалось, что его вот-вот сшибут с ног. Но они заблуждались. Дега ходил довольно резво, его слепота, пока ее не замечали, защищала его. Он то и дело останавливался, «как будто хотел сказать что-то важное». Даниэлю Галеви он признавался: «Я сплю, и очень даже неплохо… по восемь-десять часов… Все, что мне осталось, это сон и ходьба».
Прожив пятнадцать лет в своем четырехэтажном доме на улице Виктора Массе, Дега вынужден был переехать. Особняк подлежал сносу. Он перебрался в малоудобную квартиру на бульваре Клиши, где ничего больше не написал. Он даже не стал распаковывать вещи, а картины просто прислонил к стене. С этого момента дни напролет он бродил по Парижу, все меньше заботясь о своей внешности. В старом лоснящемся плаще, с запущенной бородой, он походил на «нищего старика». Воллар отмечал, что Дега казался сошедшим с полотна персонажем итальянской живописной школы. У него было благородное выражение лица, но вид потерянный.
Теперь Дега целыми днями слонялся по Парижу безо всякой цели; ноги сами собой приводили его к старому дому, который сносили. Когда были убраны последние руины, вдоль тротуара натянули заградительную сетку. Перед этой сеткой можно было видеть старика, глядящего сквозь ее спирали на пустое место…
Когда разразилась война, Дега, казалось, этого даже не заметил. Однажды, в 1915-м, внезапно остановившись во время прогулки, он спросил у матери Даниэля Галеви: «А что война, кончилась или нет?»
Последний визит Даниэля Галеви к Дега, больному бронхитом. «Новая, голая комната, лишенная прошлого» — в квартире на бульваре Клиши. Дега лежит, он неподвижен. Живет так, как будто он тут проездом. Сам почти ничего не говорит. Беседа с ним не клеится. Уже за три года до этого Галеви отмечал в Дега некое «частичное отсутствие, предвестник смерти». «К нему временами подходит племянница, поправляет подушку. Рука ее затянута в короткую тонкую перчатку. Внезапно, с неожиданной силой Дега хватает эту руку, подносит ее к потоку света, льющегося из окна. Рассматривает внимательно и страстно. Сколько женских рук он рассматривал таким образом, изучая их на свету, в мастерской. Я думал, что его сила иссякла, а он, оказывается, еще работает».
После смерти Дега в 1918-м, когда все его имущество пошло с молотка — и коллекция картин, и его собственные работы, которые он показывал другим или никому не показывал, — друзья были потрясены печальным открытием. В ворохе пастелей и рисунков, отмеченных его манерой последних лет, прослеживалось «ожесточение, выражавшееся в уродстве, в убожестве — что поражало и удручало».
Так писал Галеви; разумеется, в его суждении читается преувеличенная pruderie, стыдливость. Но это чувство помогло ему сказать про Дега то, что доселе он сказать не решался: начиная с 1870-го жизнь художника была «скрываемой от всех катастрофой». С детства Галеви слушал Дега, записывал за ним, восхищался им, почитал его. Более, чем кто-либо другой, он умел ловить звуки «его прекрасного голоса», в особенности, когда в нем звучали «интимные и болезненные ноты». В этом даже Валери его не превзошел. Но в тот момент, наблюдая следы распада, отметившие все, что было создано рукой Дега, и теперь выставленные на всеобщее равнодушное обозрение, Галеви сменил интонацию и был вынужден признать: «В этих работах чувствуется разрушение, катастрофа, которые я могу объяснить болезнью жизни, которая в 1870 году поразила Дега, мешая ему писать большие картины, заставляя рисовать фрагменты, вырванные из полумрака». Прозорливое замечание, приподнимающее завесу над «мрачным бременем плоти», так пугавшим в последних творениях художника. Но можно понять эти слова в ином смысле, поскольку именно подспудность «скрываемой от всех катастрофы» защищала своим бальзамическим покровом сущность работ, оставленных художником. Едва написав эти фразы, как будто спохватившись после легкомысленного поступка, Галеви подтверждает свое открытие словами, проницательно намекающими на «болезнь жизни», поразившую все французское искусство тех лет, заставив его забыть о культе счастья: «Да, в его творениях ощущается катастрофа, как и во всем французском искусстве после 1870 года. Но в выражении этой катастрофы никто не превзошел Дега, никто не извлек из своего отчаянья больших результатов, чем он».
Калассо, Роберто К17 Сон Бодлера / Роберто Калассо. — М. : Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж», 2020. — 376 с.
Купить книгу можно здесь
Также читайте на нашем сайте:
Михаил Пыляев: «Старый Петербург»
Майк Робертс. «Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством»
«Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм»
Петергоф: послевоенное возрождение
Софья Багдасарова. «ВОРЫ, ВАНДАЛЫ И ИДИОТЫ: Криминальная история русского искусства»
Альфредо Аккатино. «Таланты без поклонников. Аутсайдеры в искусстве»
Елена Осокина. «Небесная голубизна ангельских одежд»
Настасья Хрущева «Метамодерн в музыке и вокруг нее»
Мэри Габриэль: «Женщины Девятой улицы»
Несбывшийся Петербург. Архитектурные проекты начала ХХ века
Наталия Семёнова: «Илья Остроухов. Гениальный дилетант»
Мэтт Браун «Всё, что вы знаете об искусстве — неправда»
Ролан Барт «Сай Твомбли»: фрагмент эссе «Мудрость искусства»
Майкл Баксандалл. «Живопись и опыт в Италии ХV века»
Мерс Каннингем: «Гладкий, потому что неровный…»
Мерс Каннингем: «Любое движение может стать танцем»
Шенг Схейен. «Авангардисты. Русская революция в искусстве 1917–1935».
Антье Шрупп «Краткая история феминизма в евро-американском контексте»
Марина Скульская «Адам и Ева. От фигового листа до скафандра»
Кирилл Кобрин «Лондон: Арттерритория»
Саймон Армстронг «Стрит-Арт»



