Последние романтики: глава из книги Михаила Вайскопфа «Агония и возрождение романтизма»
Романтизм в русской литературе, вопреки тезисам школьной программы, — явление, которое вовсе не исчерпывается художественными опытами начала XIX века. Израильский славист Михаил Вайскопф видит в романтике непреходящую основу русской культуры, ее гибельный и вместе с тем живительный метафизический опыт. Его книга «Агония и возрождение романтизма», выпущенная издательством «Новое литературное обозрение», охватывает столетний период с конца романтического золотого века в 1840-х до 1940-х годов, когда катастрофы XX века оборвали жизни и литературные судьбы последних русских романтиков в широком диапазоне от Булгакова до Мандельштама. Первая часть работы сфокусирована на анализе литературной ситуации первой половины XIX столетия, вторая посвящена творчеству Афанасия Фета, третья изучает различные модификации романтизма в предсоветские и советские годы….
В рубрике «Книжное воскресенье» журнал Точка ART публикует фрагмент главы «Интертексуальная экспозиция», предлагающая по-новому посмотреть на довоенное творчество Владимира Набокова.
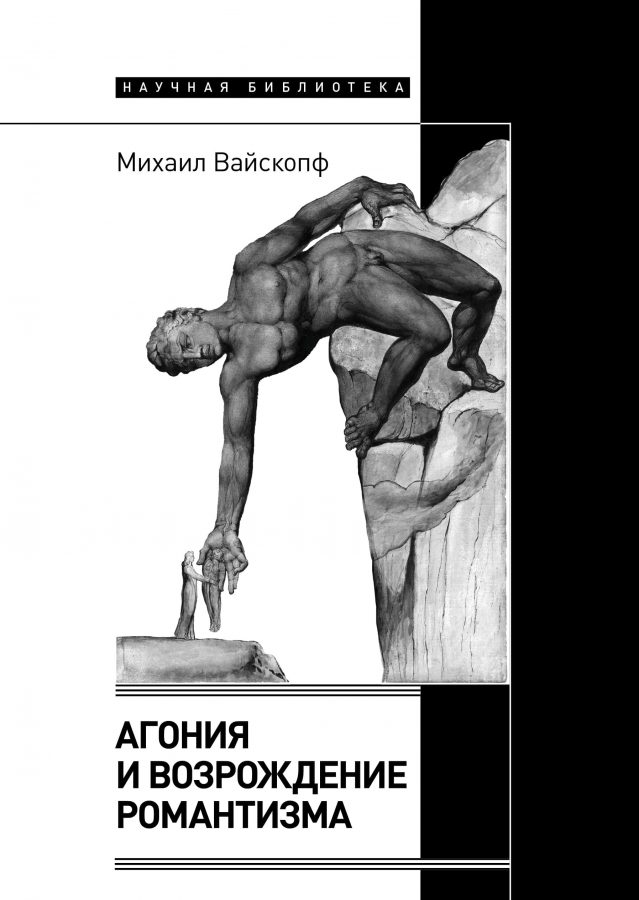
Во вступлении к своей замечательной и недавно переизданной книге о «писателе Сирине» А. А. Долинин справедливо отметил, что «русский Набоков, несмотря на единый для всего его творчества комплекс тем и повествователь ных приемов, требует особого рассмотрения» и что его «романы и рассказы до предела насыщены цитатами, реминисценциями, пародиями и прочими откликами как на „наследие отцов“, от Пушкина до акмеистов, так и на творчество современников». «Показательно, что, много занимаясь в Крыму стиховедческим анализом метрики по схемам Андрея Белого, — констатирует исследователь, — Набоков не проанализировал ни одного стихотворения Серебряного века, ограничившись исключительно классикой — Жуковским, Баратынским, Лермонтовым и др. Набоков только в 1918–1919 гг. подступает к изучению самых азов модернистской литературы».
Добавим, что перечисленная здесь русская «классика» на деле сводилась именно к романтизму, в котором писатель был укоренен3 и который он сумел всесторонне обогатить — разумеется, с оглядкой и на так называемый британский неоромантизм приключенческого типа (Р. Л. Стивенсон, А. Конан-Дойл, Г. Р. Хаггард и пр.), а с другой стороны — на мировые шедевры наподобие «Мадам Бовари» Г. Флобера, характерно названной им «наиболее романтической» — «the most romantic» — из «сказок», разбиравшихся им в качестве преподавателя.
Спору нет, разноплановое воздействие русской словесности на Сирина было уже ярко продемонстрировано многими набоковедами — и тем не менее его интертекстуальная карта по-прежнему пестрит белыми пятнами. В настоящей главе спектр предполагаемых влияний или перекличек будет по возможности расширен — а вместе с тем ограничен русской стадией Набокова.
Пушкинская пора, то есть собственно романтическая фаза отечественной словесности, включая ее массовый фон, привлекала к себе напряженное внимание писателя, особенно в контексте его филологических штудий, — и, разумеется, отозвалась за их рамками. Как известно, одушевленные реминисценции Золотого века встречались у него в изобилии, причем еще до «Приглашения на казнь», «Дара», книги о Гоголе и комментариев к «Евгению Онегину»: Рылеев и Куницын (гость поэта Подтягина) в «Машеньке» (1926), Розен-секундант и Туманский-дуэлянт — в рассказе 1931 года «Лебеда», где они втянуты были в силовое поле набоковского клана — наряду с Корфом (он же «роковой брюнет» в «Соглядатае»), Шишковым и др. (см. комментарий Ю. Левинга к рассказу «Обида» (3: 783–784). Сменив фабульные роли, Розен с Туманским воскресают в «Защите Лужина». А в «Красавице» (1934) Розен (некий барон Р.) сам вызывает «хама» на дуэль. В то же время наследие Золотого века Набоков сочетает с многоликим неоромантизмом последующей русской поэзии, в том или ином объеме захватившим и модернистов, и авангард.
В постсимволистской советской прозе 1920-х — начала 1930-х годов состоялся великолепный реванш романтизма, запечатлевший себя в произведениях А. Н. Толстого, Ю. К. Олеши, И. Э. Бабеля, А. С. Грина и других авторов, со временем, однако, полностью прирученных либо растоптанных властью. Е. Д. Толстая с исчерпывающей убедительностью продемонстрировала то ревнивое и пристальное внимание, с которым Сирин следил, например, за эволюцией А. Н. Толстого (в частности, в обличье казенного писателя Новодворцева из «Рождественского рассказа»), при том, что путь, проложенный Толстым, — путь к остросюжетному, фантастическому повествованию с постсимволистской мифопоэтической техникой, путь, альтернативный бунинскому, возможно, привлекал Набокова своей дерзкой современностью.
В силу чисто биографических обстоятельств он сохранил в эмиграции еще более тесную связь с отечественным изводом романтики, чем его современники, оставшиеся в СССР, но при этом еще энергичнее способствовал его обновлению.
Эротической осью романтической школы остается достаточно внятная сакрализация (а порой, напротив, демонизация) героя и/или его возлюбленной (и vice versa), ориентированная как на библейски-демиургические, так и на христианско-мистические модели с их заведомо неисчерпаемым смысловым потенциалом; спецификой собственно русской романтики можно считать, за некоторыми исключениями, ее эскапистски-спиритуальную асексуальность, обусловленную конфессиональными привязками русской культуры в целом.
Но за гранью базового эротического сюжета или наряду с ним европейский романтизм изначально принялся осваивать запас предшествовавшей ему приключенческой литературы с ее страстью к героическим испытаниям, экзотике, неизведанному (тоже органически близкой Набокову), стал вбирать в себя готические нарративы и всевозможную фантастику; и именно в его недрах зародился детективный жанр, одержимый смежным порывом к тайне. Естественно, что уже «Машенька», как и ранние рассказы Сирина, буквально прошита романтическим каноном — и от того вступает в безнадежную борьбу с ним. И если в одном из ключевых пассажей повествования лирическим фантомом просквозил «фетовский соловей» (2: 79), то сам фетовский текст высветится всего через полстраницы. Речь идет о том абзаце, где герой подсознательно отождествляет Машеньку с Россией — в согласии с романтическим восприятием Anima mundi и genius loci, национализированным эмигрантской ностальгией:
И глядя на небо, и слушая, как далеко-далеко на селе почти мечтательно мычит корова, он старался понять, что все это значит — вот это небо, и поля, и гудящий столб; казалось, что вот-вот сейчас он поймет, — но вдруг начинала кружиться голова, и светлое томленье становилось нестерпимым (2: 8).
Вспоминается «На заре ты ее не буди…»: «И старалась понять темноту, / Где свистал и урчал соловей…» (строфа, опущенная, правда, в поздних изданиях). Конечно, воздействие Фета на Набокова нередко отмечалось комментаторами, и вскоре мы также к нему вернемся; но размышления Ганина тянут за собой шлейф и других поэтических ассоциаций: здесь и «Я понять тебя хочу…», и «светлая печаль» Пушкина, и блоковский «Осенний день», соединяющий Рос сию с возлюбленной (тема, травестированная в «Машеньке» трогательным поэтом-эпигоном Подтягиным): «О, нищая моя страна, / Что ты для сердца значишь? / О, бедная моя жена, / О чем так горько плачешь?».
Неудивительно, что блоковских реликтов в этой ранней книге вообще много, и внушительное место среди них занимает стихотворение «На железной дороге». По наблюдению М. Э. Маликовой, цвета вагонов отсюда — «Молчали желтые и синие…» — упомянуты были в показе последней встречи героев в поезде (2: 695). Добавим, что затем в сцене расставания будет отдельно акцентирован специфический синий цвет Блока, только уже с отсылкой к другому его сочинению. Это тот эпизод, когда героиня навсегда покидает Ганина: «И он долго смотрел на ее удаляющуюся синюю фигурку, и чем дальше она отходила, тем яснее ему становилось, что он никогда не разлюбил ее. Она не оглянулась» (2: 100). Легко было бы опознать здесь аллюзию на блоковское «О доблстях, о подвигах, о славе…»: «Я звал тебя, но ты не оглянулась, / Я слезы лил, но ты не снизошла. / Ты в синий плащ печально завернулась, / В сырую ночь ты из дому ушла». Интереснее тем не менее проследить в «Машеньке» симптоматические отсветы Золотого века. Для Ганина, как для его романтических предтеч, волшебным паролем звучит имя возлюбленной, которое запечатлело в себе самую суть таинственно-щемящего настроения, вновь охватившего героя при виде «вот этого неба, и полей, и гудящего столба»:
Машенька, — опять повторил Ганин, стараясь вложить в эти три слога все то, что пело в них раньше, — ветер, и гудение телеграфных столбов, и счастие, — и еще какой-то сокровенный звук, который был самой жизнью этого слова (2: 80–81).
Филологическая эрудиция молодого Набокова, стимулированная Кембриджем, безусловно включала в себя знакомство со столь видной фигурой пушкинской эпохи, как М. П. Погодин. Герой его повести «Адель», в 1830 году напечатанной в знаменитом «Московском вестнике», предавался такому же эротическому имяславию, что и Ганин:
Ночь, синий свод, усыпанный сверкающими алмазами, полный, светлый месяц, дробящийся между древесными ветвями, воздух благоухает, дорога покрыта тенью, тишина в природе, а душа всего — Адель.
Тем не менее я привожу эту цитату не как мнимое доказательство зависимости первого текста от второго, а как образчик единой романтической схемы, в мотиве Anima mundi функционально сопрягающей оба сочинения, разделенные целым столетием.
Немаловажно, с другой стороны, что с более поздней «Защитой Лужина» (1930) «Машеньку» связывает уже сама преемственность персонажей: ведь в перечне гостей у будущей тещи Лужина мельком названа и «чета Алферовых» (2: 382). Так задним числом выясняется, что приезд Машеньки, в преддверии которого завершалась — или, если угодно, обрывалась — одноименная книга, для Алферова все же увенчался долгожданным воссоединением с женой. Потом ту же чету супруги Лужины встречают на зимней прогулке, и тогда мы узнаем, что за истекшее время персонажи «Машеньки» ничуть не изменились. Замужняя героиня не утратила своего прежнего очарования: у нее «прелестное, всегда оживленное лицо», а неотесанный и убогий Алферов, трясущий «желтой своей бородкой», не сделался более привлекательным. «Он какой-то несчастненький, — сказала Лужина, взяв мужа под руку и меняя шаг, чтобы идти с ним в ногу. — Но Машенька… Какая душенька, какие глаза…» (2: 430)
Внутренняя отсылка к собственному романному дебюту сигнализирует, разумеется, и об определенном родстве поэтики, сохранившемся несмотря на изумительное совершенствование набоковской прозы. За недостатком места я не буду говорить о сюжетно-символической канве «Защиты Лужина», а ограничусь несколькими реминисценциями романтического толка. Мальчик Лужин никогда не открывал Пушкина, предпочитая ему Жюль Верна с Конан Дойлем, — однако провал в его читательской эрудиции заполняют двойники или однофамильцы пушкинских современников и пушкинских героев. Напомню, что в книге каламбурно раздваивается Дантес, а среди школьных недругов героя назван Розен. Мечтая избавиться от семьи и школы, маленький Лужин прячется было от них на чердаке, но оттуда его снимают преследователи-доброхоты, в вереницу которых включены «почему-то молочница Акулина» и «чернобородый мужик с мельницы, обитатель будущих кошмаров. Он-то как самый сильный и понес его с чердака до коляски» (2: 314). Совершенно бесспорная аллюзия, в 1996 году подмеченная здесь А. К. Жолковским, но отчего-то поставленная им (а вслед за ним и Долининым) под некоторое сомнение, отсылает, естественно, к страшному «мужику с черной бородой», приснившемуся Петруше Гриневу, — то есть к Пугачеву (2: 423, 434, примеч. 9); а для зрелого Лужина этот «чернобородый мужик», переселившийся из чужого кошмара в его собственные, претворится в другого псевдоспасителя — психиатра (пародийный . Фрейд), наделенного «черной ассирийской бородой». На время тот низведет загипнотизированного им героя из запредельных шахматных сфер в теснины обыденности.
Вместе с тем мы соприкасаемся здесь с техникой довольно затейливых набоковских пазлов. Странная, вроде бы, трансформация пушкинского Пугачева в человека с ассирийкой бородой навеяна стихотворением М. А. Кузмина «Конец второго тома» (1922), где изображен был «чернобородый ассирийский царь», что «точь-в-точь похож на Пугачева». Зато «молочница Акулина» — это перевоплощение «коровницы Акулины», соблазненной мосье Бопре в той же «Капитанской дочке». Впрочем, в «Барышне-крестьянке» присутствуют сразу две Акулины: мнимая крестьянка и некая Акулина Курочкина, адресат героя. Отсюда в «Защиту Лужина» переходит и «кольцо с изображением адамовой голо вы», которым щеголял герой пушкинской повести, намекая на свое таинственное прошлое: авантюрист Валентинов тоже «носил на указательном пальце перстень с адамовой головой» (2: 351). Не забыл здесь Набоков и другого любимого им автора. «Ибо что есть в мире, кроме шахмат?» — недоумевает Лужин, нечаянно вторя Фету: «Как будто вне любви есть в мире что-нибудь!»

Агония и возрождение романтизма / Михаил Вайскопф. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 600 с.
Купить книгу по выгодной цене Купить в ЛабиринтеЧитайте на сайте журнала главы из других книг издательства:
На сломе эпох: глава из книги «Иван Жолтовский. Опыт жизнеописания советского архитектора»
«Театр Роберта Стуруа»: глава из книги Ольги Мальцевой
Человек с бриллиантовой рукой: глава из сборника, посвященного Леониду Гайдаю
«Культура / Дизайн. Начало XXI века»: глава из книги Алексея Рябова
«Юрий Ларин. Живопись предельных состояний»: глава из книги Дмитрия Смолева
«Розы без шипов»: глава из книги Марии Нестеренко «Женщины в литературном процессе России начала XIX века»
Французский язык в России: глава из книги Дерека Оффорда, Владислава Ржеуцкого и Гезине Арджента
Пушкин и Гюго: «Поэтические разногласия» — глава из книги Веры Мильчиной «И вечные французы…»
Арена катастроф: глава из книги Владислава Дегтярева «Барокко как связь и разрыв»
Герои своего времени: глава из книги Клэр И. Макколлум «Судьба Нового человека»
Анна Пожидаева «Сотворение мира в иконографии средневекового Запада»: глава из книги
История искусства в газете. Отрывок из книги Киры Долининой «Искусство кройки и житья»
«Очерки поэтики и риторики архитектуры»: глава из книги Александра Степанова
«Митьки» и искусство постмодернистского протеста в России: глава из книги Александара Михаиловича
«Звук: слушать, слышать, наблюдать» — главы из книги Мишеля Шиона
Шпионские игры Марка Фишера: глава из книги «Призраки моей жизни»



