«Польский театр Катастрофы»: глава из книги Гжегожа Низёлека
В «Театральной серии» издательства «Новое литературное обозрение» готовится к выходу книга «Польский театр. Катастрофы», в который проделан большой и нетривиальный анализ темы трагедии Холокоста на примере Польши. Ее автор — профессор Ягеллонского университета в Кракове, заведующий кафедрой театра и драмы Гжегож Низёлек.
Книга Гжегожа Низёлека посвящена истории напряженных отношений, которые связывали тему Катастрофы и польский театр. Критическому анализу в ней подвергается игра, идущая как на сцене, так и за ее пределами, — игра памяти и беспамятства, знания и его отсутствия. Автор тщательно исследует проблему «слепоты» театра по отношению к Катастрофе, но еще больше внимания уделяет примерам, когда драматурги и режиссеры хотя бы подспудно касались этой темы. Именно формы иносказательного разговора о Катастрофе, по мнению исследователя, лежат в основе самых выдающихся явлений польского послевоенного театра, в числе которых спектакли Леона Шиллера, Ежи Гротовского, Юзефа Шайны, Эрвина Аксера, Тадеуша Кантора, Анджея Вайды.
В рубрике «Книжное воскресенье» журнал Точка ART публикует главу, в которой автор рассматривает «Дневник Анны Франк» как камертон отношения западного мира к Холокосту.
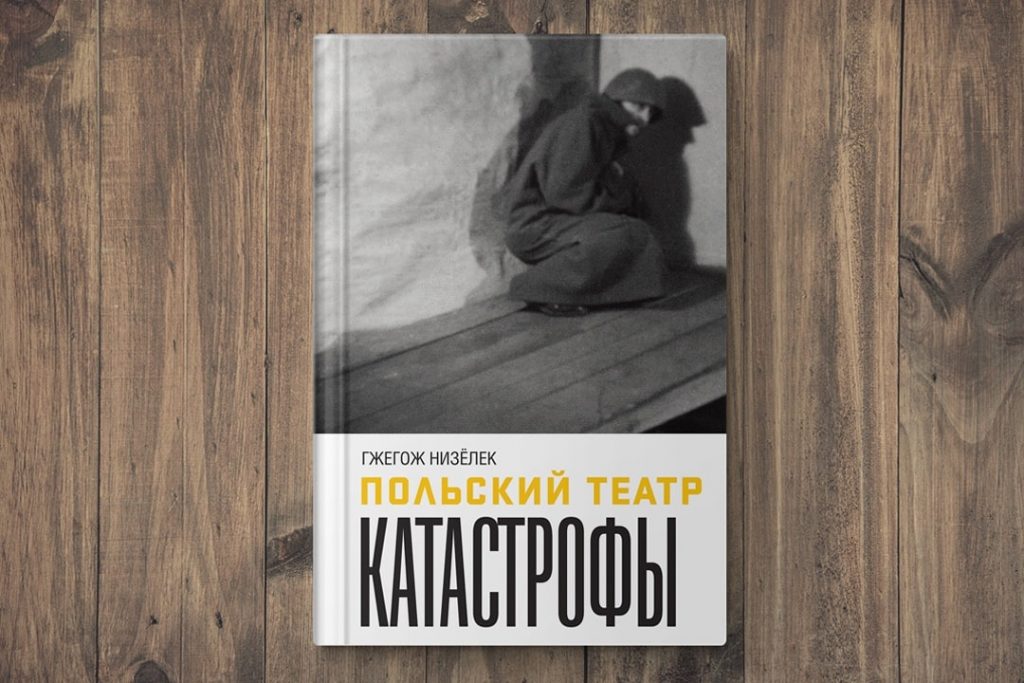
Лучше, чем мамзель Саган
8 марта 1957 года в Театре Дома Войска Польского в Варшаве, который вскоре будет переименован в Театр ≪Драматычны≫, прошла премьера ≪Записок Анны Франк≫ — драмы, к которой почти повсеместно (хоть и без оснований) относились как к адекватной адаптации ≪Дневника Анны Франк≫ — на Западе эта книга уже стала бестселлером, а в Польше еще не была опубликована. Но уже в начале февраля 1957 года, за месяц перед данной премьерой, журнал ≪Пшекруй≫ поместил короткую статью Ванды Краген об Анне Франк и большую подборку фрагментов из дневника в ее же переводе — в общей сложности три убористые колонки. Там же были опубликованы снимок Анны Франк и фотография места, в котором семья Франков и четверо их знакомых провели два года (1942–1944) в укрытии, прежде чем их выдали, и они были сначала депортированы в лагерь в Вестерборк, а затем в Аушвиц. Пожалуй, публикация в этом журнале была тогда лучшим способом пробудить широкий интерес к фигуре Анны Франк.
Рецензии были очень хорошие, можно сказать — полные энтузиазма. Ян Котт писал: ≪Наряду с «Годо» — это самое значительное театральное событие последних двух лет≫. Появились также ссылки на Сартра и его пьесу ≪За закрытыми дверьми≫. В большинстве рецензий писали о сильном впечатлении, которое вызывал спектакль: о потрясении, напряжении, комке в горле, расстройстве нервов. Повсеместно высказывалось сочувствие к судьбе Анны Франк, особенно же рецензии в ежедневной прессе были полны порывов эмпатии.
За вычетом столь живой реакции на варшавскую премьеру пьесы Гудрич и Хэкета польская рецепция дневника Анны Франк невероятно бедна, а по сравнению с литературой, возникшей на эту тему на других языках, можно даже сказать, что этой рецепции вообще не существует.

Это не значит, однако, что дневник Анны Франк в Польше не читали. История этого чтения осталась целиком и полностью на территории интимного опыта читателей. Польский читатель дневников Анны Франк, помнящий, что был тронут во время чтения, которое не было ему навязано никакими внешними обстоятельствами (мода на чтение тех, а не иных книг, школьное задание), наверняка удивился бы, читая эссе Синтии Озик ≪Кому принадлежит Анна Франк≫, опубликованное на страницах The New Yorker в 1997 году: автор этого эссе приходит к выводу, что, может, лучше всего было бы, если бы дневник Анны Франк был сожжен. Таким образом Озик подводит итог послевоенной истории цензурирования, деформирования, сентиментализирования, инфантилизации, американизации этого необычного произведения.
И нужно еще подчеркнуть, что эссе Озик — лишь один из множества критических текстов, анализирующих способы идеологизации и политической инструментализации дневника Анны Франк. Список этот открывает своим эссе 1960 года ≪Проигнорированный урок Анны Франк≫ Бруно Беттельгейм, знаменитый психиатр, а также — узник Бухенвальда. Беттельгейм выдвинул радикальный тезис: дневник помог Западу в процессе вытеснения и забвения ужаса войны, уничтожения европейских евреев и реальности концентрационных лагерей.
Автор страстно доказывает, что выбор Анны Франк как символа судьбы европейских евреев во времена Катастрофы искажает тогдашнюю реальность, вытесняет иные свидетельства, лишенные той иллюзии, что, несмотря на страшную действительность, можно сохранить ту жизнь, какая была до этого. Ярость вызывает у него попытки принять и поднять на высоты благороднейшего гуманизма абсолютно пассивную позицию жителей амстердамского дома. Он пишет о семьях, которые, напротив, разделялись, чтобы увеличить шансы на выживание, о группе венгерских евреев, проникших в ряды эсэсовцев, о повстанцах варшавского гетто.
Сама Анна Франк в марте 1944 года, услышав по радио сообщение, что после войны будут публиковать любые свидетельства военных переживаний, стала в марте 1944 года переписывать свой дневник. Она сама начала процесс его сокращения, переработки, систематизации своей рукописи. Она начала переделывать свой дневник в сознательно выстроенное литературное произведение, сгущала события, персонажи приобретали фиктивный характер (например, настоящие имена и фамилии были ею изменены на вымышленные, а слишком безжалостные характеристики убраны). Таким образом были созданы две разные версии: ни одна из них, однако, не является полной, ни одна, таким образом, не может быть положена в основу полного издания. Некоторые из тетрадей первоначального дневника пропали (существуют только переписанные самой Анной Франк позднейшие варианты на разрозненных листочках), а с другой стороны — задуманное переписывание не было доведено до конца (в этом случае приходится обращаться к первоначальному дневнику, который Анна Франк параллельно продолжала вести).
Почти во всех критических комментариях подчеркивается, что ключевое значение для создания мифа Анны Франк имела ≪сценическая адаптация≫ записок, созданная двумя голливудскими сценаристами, супругами Фрэнсис Гудрич и Альбертом Хэкетом, которые специализировались на мюзиклах и комедиях. Хотя поначалу они относились к этому предложению сдержанно, очень быстро они открыли заложенный в дневнике потенциал сценичности: камерную, полную напряжения драму, в которой — цитирую их слова — ≪моменты очаровательной комедии усиливают трагизм безнадежной ситуации этих людей≫. Так что, не откладывая, они занялись сбором информации о еврейской культуре, о Голландии, о реалиях нацистской оккупации. В результате именно успех пьесы, о котором необычайно много говорилось в СМИ, способствовал массовой продаже самих дневников: этот механизм сработал как в Соединенных Штатах, так и в Германии.

Сценический реквизит — ≪записная книжка в переплете≫ — становится живым и очевидным свидетельством существования дневника как интегрального целого. Герр Франк начинает читать первую страницу: к его голосу присоединяется голос его дочери (из усилителей). Во время затемнения мы переносимся во времени. Франк опять появляется на сцене, полностью изменившийся: ≪Он выглядит гораздо моложе, чем в предыдущей сцене. У него быстрые движения, уверенный, решительный шаг≫.
В последней сцене мы опять переносимся в послевоенное время: Франк заканчивает чтение дневника, закрывает ≪записную книжку в переплете≫ (то есть существующую как целое; нечто такое, что можно читать как целое). Он рассказывает Мип Гис, что происходило с ними позже. Один пространный фрагмент этого рассказа стоит процитировать: ≪странно это звучит, что можно быть счастливым в концентрационном лагере. В лагере в Голландии, куда нас поначалу вывезли, Анна была счастлива. После двух лет вегетации в этих тесных комнатках она могла быть снова на воздухе и солнце, по которому так тосковала. Приближался конец войны. Союз ники быстро продвигались по Франции. Мы были уверены, что вскоре они дойдут до нас≫. О том, как выглядела дорога в Аушвиц и пребывание там, мы ничего не узнаем. Под конец Франк опять берет дневник, ≪листает страницы и находит то, что хочет запомнить≫. Раздается голос Анны: ≪Несмотря ни на что, я продолжаю верить в доброту в человеке≫ (в английской версии это предложение звучит еще более слезливо: ≪In spite of everything I still believe that people are good at heart≫). Отто Франк закрывает дневник со словами: ≪Как меня пристыжает эта малютка≫.
Все драматургические приемы тут абсолютно ясны: зрители получили четкую инструкцию, как преодолеть память о прошлом. Сама конструкция временнoй рамки позволяет искусно манипулировать человеческим опытом.
Поскольку как раз пьеса Гудрич и Хэкета установила самую распространенную модель чтения дневника Анны Франк, даже те люди, которые читали сам дневник, жили позже в убеждении, что последняя написанная Анной Франк фраза выражает как раз эту непреодолимую веру в доброту человека. Поэтому в рецензиях нью-йоркской — мировой! — премьеры мы постоянно находим описания одного и того же впечатления: энергии, излучения, витальности, магии. И навязываемого убеждения, что Анна Франк чудесным образом ожила, оказалась воскрешена силой искусства и театра. Нью-йоркский рецензент так писал о Сьюзен Страсберг: ≪Благодаря необъяснимой магии она уловила весь характер Анны в свободной, спонтанной, пламенной игре. Анна является девушкой — не сценическим образом девушки, но капризным, полным темперамента, любящим существом, чье воображение всегда идет впереди опыта. Анна ли это, или мисс Страсберг — оказывается трудно разрешить, поскольку обе слились в одно. Это кажется настолько безыскусным [artless], поскольку Сьюзен Страсберг создала персонаж, полный внутренней чистоты≫.
Можно поставить вопрос, каким образом дневник стал добычей культуриндустрии, как ее определил и описал Адорно. Для начала несколько фактов. Идею создать драму об Анне Франк, которая могла бы стать также базой для экранизации, предложил Отто Франку Мейер Левин, американский писатель еврейского происхождения, который существенным образом способствовал успеху дневника Анны Франк среди американских читателей. Как раз Левин должен был стать автором этой пьесы. По мере того, как интерес рос, вокруг Отто Франка появлялось все больше людей из сферы зрелищ и развлечений, продюсеров и литературных агентов.
Пристально изучались мельчайшие детали. Правда о том, что пережили люди, скрывающиеся два года под беспрестанно висящей над ними угрозой, что их выдадут и убьют, — подвергалась тщательной дозировке. Старательно выстраивался ритм сменяющихся настроений: смешного, ужасающего, трогательного. Когда оказалось, что исполняемая в Хануку песня Rock of Ages может это равновесие нарушить, было решено ввести другую песню, хотя Отто Франк утверждал, что его дочь просила спеть именно эту песню, когда они праздновали Хануку в убежище. В результате такого рода приемов первая версия драмы создавала образ людей, которые проводят вместе довольно странные каникулы.
Более всего, однако, настораживал ≪еврейский вопрос≫ — иначе говоря, до какой степени обнаруживать и драматургически использовать еврейское происхождение героев. С самого начала было известно, что Отто Франк хочет создать из дневника дочери символическое послание, обладающее как можно более универсальным значением, хотя сам он, понятное дело, никаким образом не цензурировал еврейских мотивов при публикации текста. Мейер Левин обвинял Лиллиан Хеллман, которая выступала консультантом Черил Крофорд (та поначалу должна была продюсировать проект), а затем и Гудрич и Хэкета, в том, что это она сыграла роль первых скрипок при принятии решения отвергнуть его драму, поскольку она плохо отреагировала на слишком акцентированную в этой версии еврейскую идентификацию героев.
Лиллиан Хеллман была американской еврейкой, придерживающейся антисионистских и левых взглядов, сторонницей политики полной ассимиляции евреев. Решающий голос, однако, в этом деле имел режиссер Гарсон Канин. Это он заставил авторов многократно редактировать одну из последних сцен драмы — встречу Анны с ее возлюбленным Петером, во время которой они разговаривают о своей еврейской судьбе. Литературным материалом послужила запись от 11 апреля 1944 года, в которой Анна Франк с болью и совершенно откровенно пишет о своем еврейском происхождении и извечной еврейской судьбе. ≪Мы никогда не станем только голландцами, только англичанами или представителями еще какого-то народа, мы всегда останемся еще и евреями — так надо, и мы сами этого хотим≫.
В шестой версии драмы их разговор касался особенностей еврейской судьбы. На реплику Петера: ≪Нас тут берут как кроликов в западне, мы ждем их, чтобы они пришли и нас забрали. Почему это так? Потому что мы евреи! Потому что мы евреи!≫, Анна отвечала: ≪Мы не единственные евреи, которым пришлось страдать. Веками существовали евреи и должны были страдать≫. Канин убедил авторов, что еврейский вопрос имеет тут характер исключительно инцидентальный. Канину было важно, чтобы пьеса стала успешной, завоевала как можно бoльшую аудиторию. Он знал, что экспонирование еврейской судьбы Анны Франк может этот успех ослабить или вообще сделать невозможным.

В том, как была принята пьеса в Соединенных Штатах, доминировал механизм празднования ≪блеклого подвергнутого цензуре счастья≫, Анна Франк должна была проинструктировать, как радоваться тому, что есть. Затаившийся за кулисами ужас делал этот урок общественного конформизма легко усвояемым. В том, как была принята пьеса в Германии, действовал механизм неизбежного примирения. Каждый, кто растрогался судьбой Анны Франк, начинал принадлежать к сообществу людей, верящих в добро и способствующих искоренению зла. Истерические реакции на немецкие постановки пьесы Гудрич и Хэкета — это, однако, особая проблема, хотя как раз механизмы культуриндустрии обеспечивали эффект отпущения грехов самим себе. Все это необычайным образом раздражало Ханну Арендт и Теодора Адорно. Особенно Арендт отдавала себе отчет, насколько конформистским был урок, который Анна Франк с Бродвея преподавала немецкому обществу — особенно молодому поколению, которое вместо того, чтобы активно бороться с политическими последствиями нацизма, предавалось бесконечным ритуалам переживания вины за действия своих отцов. Огромное впечатление производила тишина, господствующая в театрах после окончания спектаклей, аплодисментов не было, многие плакали. Публика расходилась в молчании.
Кеннет Тайнен, знаменитый британский критик, написал, что во время берлинской премьеры он пережил (survived) самое душераздирающее эмоциональное впечатление от театра: ≪Оно имело мало общего с искусством, поскольку сама драма не была великим произведением, но ее воздействие в этот исторический момент в Берлине перешагнуло все, что искусство до этой поры могло достичь. Она личностно затронула весь зрительный зал: я старался сохранить дистанцию, но всеобщий катарсис захватил и меня. […] В тени события столь радикального и травматического любая критика становится излишней≫. И несмотря на то что Тайнен не хотел бы, чтобы такие эмоции прошли мимо него, он молится, чтобы не пережить их еще раз.
Свидетелем подобных реакций немецкой публики, на этот раз в Мюнхене, был Ярослав Ивашкевич: ≪Особенно Мюнхен был очень интересен — в Старой Пинакотеке встреча с Перуджино, с Кандинским, а главное — спектакль по «Дневнику» Анны Франк в Мюнхене! Это производило очень сильное впечатление, особенно гробовая тишина после представления и плач этой молодежи в зрительном зале. Некоторые вещи не прошли для этой страны (когда-то я называл ее «любимая страна»!) безнаказанно≫.

Польский театр Катастрофы / Гжегож Низёлек; пер. с польского Н.Якубовой. — М.: Новое литературное обозрение, 2021. — 624 с.: ил. (≪Театральная серия≫)
Купить книгу по выгодной цене Купить в ЛабиринтеЧитайте на нашем сайте отрывки из других книг издательства:
«Митьки» и искусство постмодернистского протеста в России: глава из книги Александара Михаиловича
«Звук: слушать, слышать, наблюдать» — главы из книги Мишеля Шиона
Шпионские игры Марка Фишера: глава из книги «Призраки моей жизни»
«Очерки поэтики и риторики архитектуры»: глава из книги Александра Степанова
История искусства в газете. Отрывок из книги Киры Долининой «Искусство кройки и житья»
Анна Пожидаева «Сотворение мира в иконографии средневекового Запада»: глава из книги



