Разговоры со студентами: глава из книги Дмитрия Крымова «КУРС»
Новинка издательства «Новое литературное обозрение» — книга Дмитрия Крымова «КУРС», в которой собраны записи занятий со студентами ГИТИСа, будущими театральными художниками. В этих разговорах, порой обрывочных и фрагментарных, да и по форме далеких от того, что принято называть «курсом лекций», находится главное — способ разобраться в собственных мыслях и в собственной художественной палитре, способ понять, что ты хочешь донести до зрителя и как воплотить задуманное. Размышляя о литературе и искусстве, исследуя примеры мирового театрального и художественного опыта и уходя от привычных трактовок знакомых образов, Крымов объясняет своим собеседникам необъяснимое — как «понять себя, найти себя и не стесняться этого».
Один из диалогов книги журнал «Точка ART» публикует в рубрике «Книжное воскресенье».
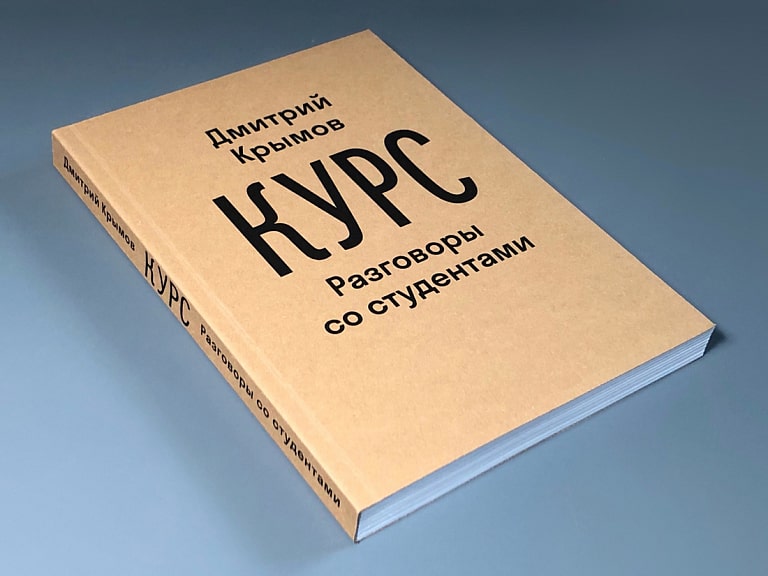
Варя. Гоголь. Ругань
Крымов. Ну что, дальше, да? Варя, «Гоголь»? А Гоголь какой?
Варя. Петербургские рассказы.
Крымов. Повести.
Варя. Повести, да.
Крымов. Давай, расскажи. Полетай около него.
Варя. Ну, я не знаю, с чего начать… Я могу начать с ощущений своих. Вот чем больше я читала про него, ну и изучала его биографию… И сами «Повести»… Тем больше у меня это не соединялось в одного человека. И они совершенно разные… И там есть «Шинель», а все остальные повести… Они как смешные анекдоты. Кто-то писал про то, что Гоголь плохо придумывал сюжеты и просил их там у Пушкина. Что он плохо придумывал сюжеты… Ну, вот есть «Невский проспект», например. С очень дурацким сюжетом… Просто описывается два эпизода, которые произошли на Невском проспекте с совершенно разными людьми…
Крымов. Это дурацкий сюжет?
Варя. Ну, мне кажется… да.
Крымов. Ты москвичка?
Варя. Да.
Крымов. Тебе в Москве комфортно?
Варя. М-м-м… Да.
Крымов. Полностью?
Варя. Ну, в разных местах по-разному…
Крымов. А в каком некомфортно?
Варя. Ну, на той же Тверской мне некомфортно.
Крымов. Почему?
Варя. М-м-м… Ну, я не люблю широкие, громкие дороги, и… такие специальные места… Ну, такие места… Много магазинов, людей…
Крымов. А что, ты в магазины эти не заходишь?
Варя. Ну, мне больше нравятся переулки и узкие улицы, не знаю. Я очень люблю Чистые и Китай-город…
Крымов. Ну вот смотри. Тверскую уж так вылизывает Собянин для москвичей как бы, а тебе не нравится. Что тебе не нравится?
Варя. Мне как раз не нравится, что это специальное место, куда нужно идти и гулять там. Специальные лавочки, какие-то украшения… Не знаю…
Крымов. Ну этим же ты сходна с Гоголем? Ему тоже, наверное, на Тверской, то есть на Невском, было неуютно… Вот как бы ты описывала Тверскую улицу с точки зрения человека, впервые ее увидевшего? Тверская улица — это потрясающе, да? Брусчатка там, асфальт, идут машины и в ту сторону и в другую сторону, и поливальные машины… Дома стоят из камня. И электричество, и там… Я не знаю… И полицейские машины иногда проезжают. И все так чинно, чисто… Вот как иностранец, который два дня побыл в Москве и обычно говорит: «Fantastic! Fantastic! Amazing!» А вот давайте проследим вот за этой бабушкой, которая идет мимо Елисеевского… А вот куда она пошла?
Она завернула. И как только ты заворачиваешь с Тверской улицы, начинаются твои приключения. Если ты хочешь посмотреть за какой-нибудь бабушкой или за любым человеком, ты увидишь то, чего не захотела бы увидеть. Да? Ну хорошо, это, наверное, случайно. Давай посмотрим на другого. Вот вполне симпатичная дама идет. Давайте посмотрим. У-у-у, ёклмн… Что там такое?! И это в Москве?
Эти два случая позволяют тебе сказать: вы знаете, хуже, чем Тверская улица, вообще ничего нет. Исчадие ада. И это наша Тверская! Наша?! Так что? Про Тверскую интересно, а про Невский нет? Так не бывает. И это не дурацкие истории… То есть дурацкая судьба у этих людей, дурацкая и совершенно драматичная, это как бы подноготная красоты. Это иллюстрация его великой идеи, что нельзя долго смотреть на смешное — заплачешь. Нельзя долго смотреть на красивое — это будет ужасно.
Варя. Не знаю, простите, я очень плохо рассказываю…
Крымов. Ну, рассказывай как можешь. Важно продраться к твоему чувству по отношению к Гоголю и к этому сборнику великих произведений. Ты понимаешь, ты не закрывайся, ты открывайся. Потому что я тебя не открою. Я, если тебя начну открывать, я открою свое. А ты должна открыть свое. Понимаешь? Вот задача. Иначе великое пройдет от тебя стороной. И ты останешься бедной.
Ты должна раскручивать свои мозги, чтобы найти то, что тебе интересно в Гоголе. Должна. Именно должна. Вот пока я не понял ничего. Дурацкие истории? Плохо придумывал сюжеты? Убей бог, не понимаю. Как-то это мелко. Понимаешь, если мы не подтянем себя за уши к Гоголю, мы останемся маленькими людишками, торопящимися по своим делам мимо его памятника.
Надо заставить себя ответить на некоторые не школьные вопросы. Что он для тебя? Какой? Теплый? Холодный? Страшный? Обхохочешься? Или, наоборот, несмешной? Какой-то странный, дремучий? В чем разница с Гофманом? В чем разница с Хармсом, у которого старушки выпадают, а у этого русалки выходят? В чем разница? В чем?.. Ты должна это почувствовать. И тогда возникнет понимание «зачем». Зачем ты это делаешь. Без этого дальше не пройдешь. То есть можно, но не нужно. Не нужно.
Профессионализм без ответа «зачем» — это пошлость.
Варя. Угу.
Крымов. А если есть «зачем», то остальное подтянется. Если ты очень хочешь что-то сказать про Гоголя… А ты не можешь не хотеть сказать про Гоголя, просто не можешь. Все эти писатели, которых я вам дал, про них нужно просто… гореть. Это как печка. Все. Одиннадцать печек просто, теплых печек. Горячих! Не прикоснешься. Вот просто открыть, погреться, понять конструкцию и построить свое. Они помощники, только надо эту помощь попросить. Надо ее оттуда вызвать, эту помощь. В чем сложность, Варь? Объясни мне. В чем для тебя сложность думания на этот предмет?
Варя. Ну, я не очень понимаю, как мне нужно думать… Я просто… Мне же нельзя думать о «Мертвых душах» и о еще чем-то? Ну, в смысле, он же был разным. И что вот он потом уехал из Петербурга, и у него как-то переменилось все в голове. Или это неважно совсем? И мне не нужно думать об этом? Мне не нужно думать, не знаю, о письме Белинского, который ему написал?..
Крымов. Нет, что для тебя важно, я не знаю. Что для меня важно — ты увидишь, когда я буду делать спектакль. А что для тебя важно, что тебе интересно? Ну как ты меня спрашиваешь, это важно или нет… Мы же не школьное сочинение пишем… Вот тебе заказали скульптуру Гоголя.
Вот Андреев, который делал скульптуру сидящего Гоголя, ну ясно, что он заполнился Гоголем-мучеником просто, который завернулся в шинель, только нос видно. И вообще похож на какую-то глыбу камня, из которой только нос торчит и волосы спадают на лоб. Больше ничего не видно, ни фигуры, ничего. Закутался и сидит. Необычный совершенно такой памятник. Великий путаник. А другой памятник, стоящий, сделанный в советские годы, где написано «Гоголю от Советского правительства» — ну, такой позитивный, как Маяковский на площади Маяковского, такой «Гоголь — наше все», один из портретов на стене класса, который не запутывается нигде. А тот — запутался. И игрок, и сам запутался, и всех запутывал.
Что это за характер? Маленький гном, он был меньше, чем Пушкин, на пять сантиметров, приехал из Малороссии в столицу, пришел к Пушкину и просил письма из дома присылать на адрес Пушкина. Пушкин говорит: «Ты что, с ума сошел? Не смей этого делать! Почему ко мне должны твои письма присылаться?» Он пиявка. На него можно взглянуть как угодно, но это гениальная пиявка.
К Пушкину он просто присосался, притом что Пушкин хохотал до слез и ввел его в свет, что называется. Но он странный болезненный человек, который принципиально испытывал дискомфорт в жизни. Вот просто дискомфорт. Ему везде было плохо. И со всеми было плохо. Может быть, только кроме Пушкина. Спектакль поставили, «Ревизор» в Малом театре — плохо. Царь пришел, похвалил — плохо.
В Петербурге — плохо. Уехал — плохо. Места не мог себе найти. Такие письма писал, что в собрании сочинений, мне подарили недавно дореволюционную книжку «Весь Гоголь», и там в предисловии сказано, что письма мы сюда не включаем, потому что не надо читать все, что написал этот великий человек… Это сильно роняет его в глазах потомков, его письма к матери, к сестрам.
Это же патологический человек. Вот в чем его патология? Это же Акакий Акакиевич, он ни в чем ему не уступает… Ты так описываешь Акакия Акакиевича, каким его увидел Норштейн. Он увидел добренького старичка. Ну, в мультфильме он его так изобразил, ну хорошо. Но в общем-то Гоголь-то описывает чудовище. У которого, кроме переписывания чужих текстов, вообще ничего нет в голове. Чужие слова переписывает. И весь в заплатах. Ты можешь себе представить, как он пахнет? Акакий Акакиевич. Можешь, наверное. Ну, вот он так и пахнет, как ты можешь себе представить. А откуда ему пахнуть по-другому? Это же довольно противно, это же …
Кто такой Гоголь? Чем он тебя, чем он тебе? Вот я понимаю, Валя про Толстого: стыд. Господи, я думаю, боже мой, ничего себе взгляд на Толстого — стыд. Вот Достоевский копает, копает, копает всех, и ему не стыдно, не стыдно ему, он вот знает, что человек состоит из говна какого-то, и вот он пока все не вычерпает оттуда, ему не стыдно. А Толстой как бы наполовину ангел, не уступающий Достоевскому по уровню таланта, исследует того же человека — и все ему стыдно, все ему неловко.
Вообще, не знаю, это грандиозное качество — стыд. Стыд за человечество, стыд за устройство государственной власти, стыд за церковь, стыд за то, что, не знаю, люди любовью занимаются, это стыдно, это все стыдно, не надо. Стыдно, стыдно за нечестность, мы не так живем, так жить нельзя.
А кто такой Гоголь? Кто такой Гоголь? Вот он же на планке великости стоит не ниже, чем Толстой, чем Пушкин. Или ниже? Если ниже, почему? Если не ниже, тогда изволь его разобрать так же, как мы докопались, что Лермонтов — это пацан, закомплексованный пацан. Только когда он видит Казбек или Машук, он тогда не комплексует, а так — человек-комплекс. Исковерканный Пушкин. Это же мы докопались. Исковерканный Пушкин — не знаю, для меня это все. Вот взять Пушкина, слепить, потом разбить эту самую скульптуру и склеить вот как-то кособоко, но из пушкинских частей. И назвать это «Лермонтов». И памятник Лермонтову — это разбитый и склеенный Пушкин. Я, понимаешь, специально склоняю вас к перегибам. Мне не надо объективности, не надо школьной объективности. На ней ничего не построишь, кроме портрета в деревянной рамке в школьном классе, который ничего никому не говорит. (Пауза.)
Не, Варь, ты должна… Ты должна. Это часть работы, это как макет делать. А так ты только макетный нож крутишь в руках, а не режешь, ты макет не делаешь, а мне макет нужен. Ты должна двадцать пунктов, двадцать пять, тридцать пунктов своих ассоциаций на лист положить… Ты сделала себе такой лист, о котором я говорил?
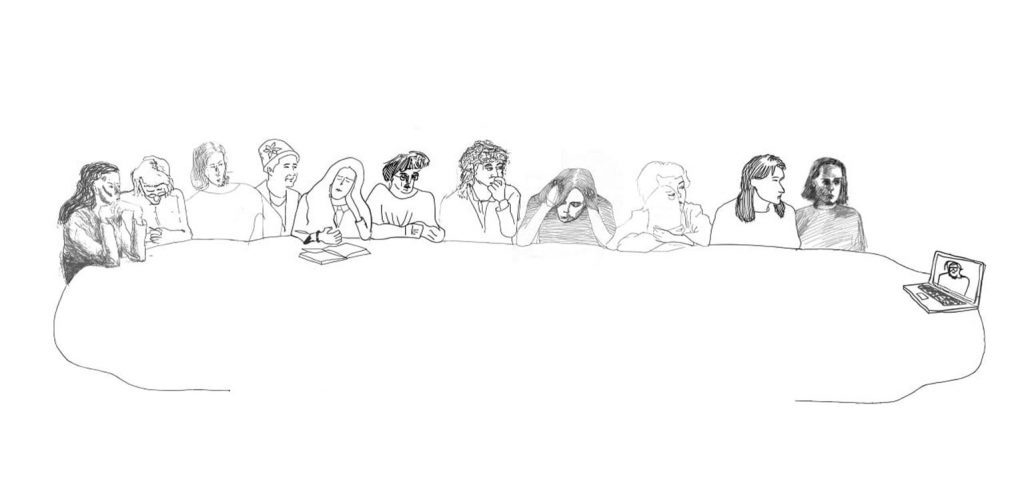
Варя. Да.
Крымов. Покажи.
Варя. Ну, у меня не такой сейчас… У меня просто А4.
Крымов. Покажи. Низ покажи. Нет, я же сказал — неровный.
Варя: Ну простите.
Крымов. Вот у тебя и мысли такие стандартные — А4… Я же не просто так говорю: возьмите большой лист с неровными краями. Я же вам помочь хочу… (Пауза.) Ну что? Стопор?
Варя: Угу.
Крымов. Дать тебе подумать?
Варя: Да, давайте… (Окно с Варей закрывается.)
Крымов. Он Хлестаков в чем-то. С Пушкиным на дружеской ноге — это он про себя. Он великий жулик, великий жулик, который изобрел стиль, который стал русской прозой. До него, в общем, русской прозы не было. То, что Пушкин и Лермонтов писали, это вполне мог француз написать. А это — русская проза. Косноязычный… Вот Синявский пишет, что он из своего косноязычия сделал русскую прозу. И если даже попробовать прочитать «Птица-тройка, куда несешься ты?», там столько разных… В этом тексте столько лишних букв и запятых, что ты это гладко не прочитаешь. Даже это. А этому гениальному куску предшествует страница, или полторы страницы, или две с половиной страницы, которые абсолютно никто не читает. Это просто, ну как бы… из позднего Гоголя.
Это абсолютно… манная каша. С комками. А кончается вдруг такой поэзией. Это странное сочетание. Гоголь — это странное сочетание. Ну, я не знаю… Я так не могу это оставить, что ты сидишь, мучаешься насчет Гоголя и не можешь сказать ни одного слова. Это же такое ароматное явление. Это какая-то медицина. Это медицинский случай. Медицинский случай, причем публичный медицинский случай. Он не скрывает, что это медицинский случай. Это — «Да, я — медицинский случай!». Вот такой вот гном.
С Пушкиным на дружеской ноге. Он не дружил! Он не дружил! Он присасывался. У Пушкина были другие друзья. Вяземский. Декабристы. Пущин. Кюхельбекер. Были, ну, как бы нормальные люди. А этот гном какой-то. Ну, гном. Он пришел из Малороссии, провинциал такой. Плохо говорил. Амбициозный. Липкий. Липкий он был. С ним не здоровались его соученики, потому что он был липкий, у него же там страшная фраза есть, когда Пушкин умер: «Для кого же я теперь буду писать?» Он про себя думает в этот момент. «Для кого же я теперь буду писать?» Это же абсолютно эгоцентричный человек. Но великий писатель.
Что такое художник? Это сочетание красок. Что такое писатель? Писатель — сочетание слов. Он — великий сочетатель слов. Что такое проза? Это сочетание слов. Он великий вязальщик слов. Он создал русскую прозу— фантастическую, грандиозную русскую прозу, ну что тут поделаешь. Сотканную не по законам пушкинской прозы, а по законам какой-то сказочной… не знаю, сказочный реализм. Фантастический, как вино какое-то, его можно просто пить. Иногда это прогорклое вино, иногда это какое-то сладкое вино, чересчур сладкое, церковный кагор, который можно только наперстком попробовать, а так его пить не будешь. Но это, не знаю… фантастический человек. И все у него летают как нечего делать… Ну что тут говорить… Не знаю, ну найди что-нибудь такое сама… тебе же потом камень рубить, скульптуру делать. Это для тебя, не для меня… Пускай мои мысли будут твоими, пожалуйста. Но ты должна это почувствовать, почувствовать. Ты тут, нет?
Варя (голос). Да, да. Я тут.
Крымов. Ведь то, что Пушкин ему подарил сюжет, известно только от него самого. И что наборщики смеялись, набирая «Вечера на хуторе», никто не знает… Нет свидетельств больше, кроме как его запись в дневнике или в письме кому-то… Вполне возможно, он наврал. Поначалу он был учителем. Простым учителем. А самосознание у него было как у Иисуса Христа. Гипертрофированное, надутое, до какого-то момента не оправданное, смешное, нелепое. Потом, когда пошла литература, вдруг оказалось, что это имеет такое великое содержание. Сначала «Вечера», потом эти «Петербургские повести», потом «Ревизор», потом «Мертвые души».
Собственно, он больше ничего и не написал. Он увяз в этих «Мертвых душах», заболел, кончил эти «Мертвые души» совершенно не так, как начал, а второй том — известно, что с ним произошло. Там поэзии и легкости уже нету. А возьми двенадцать томов, или сколько у него там томов в собрании сочинений, так все, что мы знаем и любим, умещается в двух с половиной, а десять томов — это религиозные тексты. Я несколько раз их пытался прочитать — это невозможно. Это не то, за что Белинский его ругал. То еще более или менее хотя бы понятно. А вот эти религиозные тексты — это просто свет туши. Ну как это? Это разве не странный персонаж? Самый низкий, маленький человек в русской литературе из великой плеяды гениев… И писал о нечистой силе. Ну разве это не цепляет? Ну хотя бы это.
Понимаешь? Тянуло к Пушкину, а писал про нечистую силу. Тянуло к самому светлому, а писал про тьму… Про черта пишет, как про своего соседа. Маленький человек, который красил свои платки, которые из кармана торчали. Ну ты знаешь людей, которые красят свои платки?
Варя (голос). Нет.
Крымов. Варя, в общем, смотри. Тебе надо взять неровный листок бумаги большего размера. И пиши не тривиальные вещи, не школьное сочинение про Гоголя, а выискивай какие-то интересные формулировки, которые потом подскажут тебе твою близость к нему, которые позволят тебе на этом базировать твое пространство, твой сценарий, твою игру. Тогда автор становится прозрачный.
Это призрак в том японском мультфильме, который Петя мне прислал, когда девочка среди призраков. Там есть такие полупрозрачные черные призраки… Они же есть, но через них видно! Вот так и эти писатели: они есть, но их нужно сделать прозрачными, их нужно исследовать, исследовать, из чего они состоят. И тогда… Ну, как бы ты будешь через них видна. Смотря, правда, с какой стороны ты будешь находиться — с той или с этой… Ну неважно. В общем, ты сможешь ими манипулировать, они станут частью тебя. А так я не понимаю. Ну не понимаю, я не буду скрывать. Я не понимаю. Ты понимаешь, по какой шкале мое недовольство сейчас происходит? Варь, ты ушла отсюда или уже что? Ты плачешь в туалете? Где ты?
Варя (появляясь). Нет, я вас слушаю.
Крымов. Ты не плакала?
Варя. Ну, плакала. Но не в туалете.
Крымов. Ну хоть плакала, ладно.
Варя. Но я вас слушаю.
Крымов. Варь, ну ты, это самое, думай, пожалуйста…
Варя. Нет, я все поняла…
Крымов. Как говорится, о себе не думаешь, подумай обо мне. Я расстраиваюсь. Не надо меня расстраивать, я этого не заслужил…
Варя. Да, угу… Я понимаю.
Крымов. …Давай. Пожалуйста, в следующий раз что-нибудь повеселее, а то я что-то расстраиваюсь очень.

Курс: Разговоры со студентами / Дмитрий Крымов. — М.: Новое литературное обозрение, 2023. — 272 с.: ил. (“Театральная серия”).
Купить книгу по выгодной цене Купить в Лабиринте


